








|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
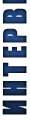
| к списку статей
|
|
||
Военный. Белый. Пушистый. Александр БАЛУЕВ: “Я никогда не рискую”.
Он подошел, и я закачалась. Мундир сидит как влитой. Крепкий торс весь в ремнях. Плечи развернуты. Одним словом, штабс-капитан, ваше благородие, чего изволите... Он же — артист Балуев, переигравший весь армейский состав — от рядового до маршала. Вот и теперь на съемочной площадке в “Гибели империи” у Хотиненко он — штабс-капитан. Кто б знал, что он по-хорошему оружия в руках держать не умеет.
I
— Ну, как будем, — спросила я. — Сидя, стоя?
— Лежа, — сказал как отрезал и прилег на траву.
Так и начинаем интервью — возле брезентовой палатки. А солдатики из массовки курят и косятся на нас из палаточного окошка.
— Саш, у тебя такая шикарная выправка?
— У меня никакой выправки, это я все пыжусь. На самом деле я большой и сутулый, но когда надеваю форму, то ее надо как-то нести. Я стараюсь мундир красиво носить и в основном по представлению: как, мне кажется, ее носили офицеры царской армии.
— Вот парадокс — ты сугубо штатский человек, а больше всех из артистов своего поколения переиграл военных. Нет, армия тебя однозначно выбрала.
— Да, с военными — это перебор. Я заявляю громогласно, что в “Гибели империи” — моя последняя военная роль. Больше не будет. Всех переиграл от рядового до... В театре начал с рядового, а в кино — сразу с офицеров.
— До каких чинов ты дошел?
— Сейчас в “Московской саге” — маршал.
— Не обижайся, но военные на экране — это самые кондовые образы. Тут претензии не к тебе, актеру, а к режиссерам и сценаристам.
— Ну, знаешь. И в литературе, если хорошенько покопаться, есть интересные персонажи — полковник Вершинин, например. Но, понимаешь, я и в жизни не люблю все это — военное. Такую несвободу, которую военные на себя добровольно принимают, я не понимаю. Поэтому с отцом — он военный — у нас не было близости.
— Может, вы, штабс-капитан, и стрелять не умеете?
— Я вообще не люблю оружие, у меня вызывают панику все эти пистолеты с пулеметами. На “Спецназе” мне говорили: “Там стреляют, но не моргают”. А я начинал стрелять, и хлоп-хлоп глазами. Не помню, сколько я отстрелял рожков, чтобы отключить этот рефлекс.
— А военные тебе при встрече честь отдают?
— Честь не отдают, но руку жмут. Я не встречаюсь с высокими погонами, и нет у меня особого желания с ними встречаться. Если я играю генералов, то они у меня все получаются какими-то мерзавцами. Самый хороший генерал только в “Каменской”, но там есть обоснованная трагедия, судьба. А все остальные — либо торгуют боеголовками, либо делают деньги. Поэтому, я думаю, генералитет меня не очень любит.
— А девушки честь отдают?
Но тут где-то громыхнуло, и по кустам ползет дым. Балуев убегает.
II
— Для Балуева перерыв. Давайте японца!
Это уже через 20 минут, грассируя, кричит режиссер Хотиненко. Пока японцу — артисту — делают крупный план, спрашиваю Сашу:
— У тебя фамилия, как песня — Ба-лу-ев... Было прозвище в детстве?
— Масса — Балуй, Обалдуй. Еще — неприличные, но не буду говорить.
— В ней заложена некая изнеженность.
— Да, я и произвожу такое впечатление. Если не баловня, то скорее удачливо идущего по этой тропинке человека, которому многое дается с небес. Что-то, наверное, дается. Но я этой избалованности не чувствую. Сам для себя знаю что почем.
— Какая самая высокая цена, заплаченная тобой в профессии?
— Наверное, сейчас — нахожусь в очень некомфортной ситуации.
— То есть?
— Я понимаю, что не должен сейчас вообще сниматься. У меня маленькая дочка, ей год и два месяца исполнилось. Я чувствую свою вину и живу с ней. Никакими деньгами тут не откупишься.
— А тебя родители воспитывали по-другому?
— Мои родители, царство им небесное, жили обыденно — от понедельника до пятницы, с 8 утра до пяти. А у меня же график: ухожу рано утром, прихожу рано утром... дня через три. Или отсутствую в экспедициях, неделями не бываю дома. Все это меня раздергивает.
— А в детстве ты наверняка выглядел старше своего возраста. Значит ли это, что тебя быстрее принимали во взрослую компанию и ты быстрее познал прелести взрослой жизни?
— Да, всегда более старшие принимали меня за своего ровесника. Ни я сам, и никто вокруг не помнит меня наивным подростком-малолеткой. Я сразу стал каким-то взрослым, хотя и прыщавым. Но юношей. Мне всегда давали плюс лет 7—8. В 13 лет спрашивали: “В армию тебя, что ли, забирают?”
— Значит, твое половое созревание быстрее прошло?
— Половая жизнь — это когда пол с полом?
— Можешь шутить, но представь ситуацию, что тебе 13, а ты безумно понравился 20-летней. И она...
— Ну, в общем-то так и произошло, чего тут скрывать — нелепо и смешно. Да, это было несчастье. Но поскольку я этого не понимал, то мне приходилось очень сложно. Мне бы футболян погонять, порезвиться, а не уединяться с тетеньками. Внешне я взрослел, а внутренне я все равно... Даже сейчас чувствую себя лет на 25.
— Я спросила тебя про секс пубертатного периода не для того, чтобы узнать, когда ты первый раз с кем и где? Хотелось бы понять, насколько ранний опыт во всем влияет на талант?
— Не во всем. Но надо как можно больше испытать — без этого не бывает талантливых людей. Это так. Все остальное, происходящее плавно и умно, оно не вызывает... Извини, я должен идти.
III
Я лежу на травке в ожидании моего штабс-капитана. А мимо идут рядовые с шинелями через плечо и котомками за спиной. Один интересуется, не маркитантка ли я? А тут и Балуев подоспел.
— До института ты работал на “Мосфильме” электриком — интересная профессия для будущего артиста.
— Мне тогда было 17, и на меня не могли возложить ответственность как на электрика. Поэтому меня запустили в так называемый нижний парк, я числился там помощником электромонтера. Я носил фонари, которые сдавали на ремонт, и вставлял в них грифели, которые горели.
— На твоих глазах снималось кино?
— Да, конечно. Например, с Высоцким “Арап Петра Великого”, видел, как Евстигнеев трудился на съемочной площадке. Мы заливали катки для фильма “Мама” с Гурченко.
— Так это ты Людмиле Марковне... ногу помог сломать.
— Нет, не я ей подножку подставил. Я лед заливал и чистил. Да, она проклинает всех, кто заливал. Так что лучше ей и не знать, кто это делал.
— Испытывал трепет перед артистами?
— Да. Перед артистами особенно. И долгие годы потом боролся с этим чувством, ненужным и мешающим. Пиетет в работе — это нехорошо. Не помогает — это точно. В работе должна быть равность.
— Совершенно нет воспоминаний о том, как ты учился в театральной школе. Эти годы такие серые?
— Наоборот, одни из самых приятных. Наш курс набирал Павел Владимирович Массальский, но он на третьем курсе умер, и уже выпускал нас Иван Михайлович Тарханов. Мои педагоги — Ольга Фрид, Софья Пилявская, Евгений Радомысленский... Я играл в “Утиной охоте” Зилова, “Спешите делать добро”. Из крупного больше ничего. Еще кандалами стучал, где-то в “Воскресении”.
— А учился как?
— Учился... ну как... В свое удовольствие. — никаких усилий, напрягался в основном перед сессией, когда нужно было быстренько почитать, допустим, “Дон Кихота”, пропуская описание природы.
— А как же выращивать зерно?
— Тогда мы еще ничего не выращивали. Оно само как-то прорастало. Мы гуляли, выпивали, веселились. Богема такая, театральный институт, все такие пижонско-оторванные. Я не был пижоном, но одно то, что ты учишься в театральном, в этом уже была загадочная бесшабашность, которую нужно было поддерживать своей жизнью.
Прибежала ассистентка, черт ее побери, и увела Балуева на грим. Гримировали примерно минут 20, чтобы потом сделать кадр на полторы минуты. В мониторе — фрагмент в духе Франкенштейна: окровавленное лицо, по нему стекают струйки крови, рваная рана на голове. Окровавленная рука поднимается и медленно падает. Наверное, его убили. Впрочем, не убиенный, а тяжело раненный штабс-капитан, крепкий и живехонький, возвращается ко мне.
IV
— Вот, Саня, кстати, вопрос о гриме — очень немаловажный. У тебя красивое, крупной лепки лицо, и режиссеры предпочитают снимать тебя без грима. А сам ты как к нему относишься?
— Не люблю грим, но просто это та необходимость, которая нужна в кино. В театре я стараюсь не гримироваться. Не потому, что ленивый, а потому, что если играем не в карнавальность и в масочность, то в театре грим вообще не нужен. Чем чище лицо на театре, тем интереснее то, что должно происходить с артистом. Вот я вспоминаю грузинский спектакль “Отелло”, когда его привозили в Москву на гастроли. Менгвенеттохудсесси играл мавра: он выходил на сцену такой черный, и я думал: “Ну все, ужас — грузин, да еще черный. Сейчас начнет рычать, мычать”. А он подходил к купели, смывал весь грим и начинал действовать. А в конце, когда свершал свои страшные деяния, намазывал себя “гуталином”.
Так что в театре я не люблю грим, а кино... это такой великий обман, великая ложь, которой нужна подлинность: если идет кровь, значит, только кровь...
— Я думаю, что Максим Суханов с тобой не согласится — он обожает грим, играет с ним, как ребенок. Вспомни силиконовую маску в “Лире”.
— Суханыч вообще любит ярчайшую форму, потом уж ее наполняет. Я не люблю форму, мне наполнения достаточно. Если оно есть, то форма — в этом весь и кайф — рождается помимо твоей воли. Мне такой путь ближе. Часто я замечаю за собой, что так не хожу в жизни, как на экране, но когда начинаешь что-то играть, работать с материалом, в котором есть глубина и содержание, то меняется вообще все — твоя пластика, взгляд...
Год назад я поехал сниматься в Таллин. На Рождество там был жуткий холод — 32° мороза при адской влажности и ветре. И мы снимали все время на воздухе. Короче, кожа у меня стала проваливаться. А до этого я думал: “Ну кожа и кожа, помазал “Нивеей”, и до свидания”. А здесь кусками отходила и отмирала. Не люблю грим.
На этих словах артист вскакивает и убегает. Солдатик из массовки, что топчется рядом, предлагает мне закурить.
Появляется так же неожиданно, как и исчезает. “Пишем дальше”, — тон командирский. Не вышел из роли? Или сам по себе такой?
V
— А ты производишь впечатление страшно спокойного человека. Ты всегда был таким?
— Нет. Я никогда не был спокойным. Я и сейчас неспокойный. Внешне стараюсь, если меня не провоцируют, мало проявлять свои эмоции. Мне так удобнее и комфортнее.
— Не любишь слова?
— Не люблю. Я люблю молчать очень. Очень. (Пауза.) Слова и несут ложную информацию, и информация, которую мы получаем посредством слова, неистинная. Человек живет музыкой, звуками, шумом леса, водопадом... Масса всяких примеров. И человек думает. В этот момент ему не надо вот это — бла-бла-бла. Зачем?
— А когда ты девять лет сидел без работы в кино и был только театр, ты тоже сохранял спокойствие? Ждал? Или были внутренние истерики?
— Я ничего не ждал. Я выпивал, даже как бы запивал. Мне казалось, что художник в нереализованном виде должен сидеть и пить в разных компаниях. Причем самых странных.
— А как же риск и экстрим?
— Какой здесь риск? Упал и хватит. Тебя отнесли и положили. Или сам дошел. Потом это тогда было модно: пить после спектакля, ходить в родной ВТО. Сколько потом по этой моде людей в могилу сошло.
— Жалеешь о том времени?
— Нет. Я вообще ни о чем не жалею. Этот период, если он был, значит, был нужен. Я мог каждый день употреблять алкоголь и при этом работать. Сейчас я понимаю: это было странно, что я выпивши выходил на сцену. Даже Калигулу в таком виде один раз сыграл. Слушай, я уже столько не пил. Но память осталась.
— А ты пьяный нехороший, как Илья Муромец из анекдота?
— Да, у меня был кураж дурной. Тяжелый — и для себя, и для окружающих. Но при этом я много играл, а про кино особенно не думал: ну нет его и нет. Думал, так и буду жить. И театр меня не удовлетворял, думал, надо переходить, искать новые...
— Формы?
— Формы, да. (Смеется.) Неудовлетворенность была Театром Армии, меня тяготили военные темы.
— Скажи честно, в Театре Советской Армии была дедовщина?
— Нет. Но как бы в любом театре ты вынужден прислушиваться к людям со званиями. Мне просто повезло — судьба позволила миновать встречи с самодурами: вот я народный артист, а ты — говно. Поэтому я благодарен Театру Армии, где были и есть артисты, уважающие труд партнера, в каком бы звании они ни находились, — Зельдин, Пастухова.
— Из этого театра вышло наибольшее количество современных звезд — Меньшиков, Лазарев, Домогаров, Балуев. Случайно или нет?
— Какая-то связь, наверное, есть. В основном та, что всеобщая воинская обязанность приводила нас в одну точку. Где-то мы должны были служить. И театр, честь ему и хвала, собирал и спасал нас. Кто-то задерживался в Театре Армии, как я и Олег, мы отработали по шесть лет. А кто-то сразу ушел.
— Какую дату можно считать днем рождения артиста Александра Балуева?
— У меня нет такой даты. Я помню только, как на 4-м курсе мы поехали, кажется, в санаторий Академии наук и играли там спектакль “Утиная охота”. Вот после него я понял, что со мной что-то случилось, что-то с чем-то соединилось. Я понял — этот язык мне подвластен, и я имею право им разговаривать. И что мне на сцене проще, чем за кулисами.
VI
— В картине “Мусульманин” в сцене драки Миронов насаживает тебе на голову ведро и дубасит по нему палкой. Каскадер работал с ведром? Или ты?
— Надевал я, а Сакуров-каскадер получал от Миронова по голове. Правда, под ведром был шлем, но все равно его повело от удара. У нас, артистов, задача какая? Отыграть все это, а удары получают каскадеры.
— Но среди актеров есть такие энтузиасты, которые сами выполняют трюки.
— Ой-ой-ой, это я не люблю.
— То есть сам в машину не сядешь, в горящую избу не войдешь. Уже не говоря о коне.
— Я делаю какие-то опасные телодвижения, но ровно настолько, чтобы выжить. Я никогда не рискую. Я не люблю риска вообще. Ни по жизни, ни в кино — нигде.
— Может быть, тебя остановили трагические истории со знаменитым поляком Цыбульским или нашим Урбанским? Они погибли на съемках, исполняя трюки, хотя им предлагали каскадеров.
— Ну и зря исполняли. Хотя, может, и не зря, это судьба — она людьми движет. Но провоцировать ее, конечно, не надо. Есть специальные люди, которые должны уметь это делать. Не всегда они оказываются на площадке, вот что чудовищно. Бывает так: надо снимать погоню, а каскадеров не вызвали, их нет. И, значит, что? Режиссер берет на себя смелость отменить съемки или сказать мне: “Ну что, Сань, давай прокатимся”. Вот так и случается — вроде бы ничего страшного, а...
Да, есть артисты, которые получают от этого удовольствие, адреналин. Но это очень рискованно, а потом в кино все равно ничего не видно. Если прыжок с шестого этажа, его отдельно снимают — и получается эффектно, когда трюк выполняет профессионал. А если просто артист выскакивает из окна и летит два этажа, то получается — плюх. В этом нет эффекта и искусства. Хотя для артиста это, может, и важно: каждый раз себе доказывать — он может, он в форме!
Запахло жареным. Это обед привезли. Выстроилась очередь из массовки. Первачи не спешат. Хозяйственный интендант Толян раскладывает по тарелкам харч.
VII
— Вопрос о партнерах. Скажи, как ты, профессионал, мог быть со мной на равных на съемках “Гибели империи”. Ведь я из другой оперы, а значит — тебе не ровня.
— Это такая профессия, на мой взгляд, что не окружающие должны делать тебе комфортно (вот я сижу тут на лавочке, а вы крутитесь на пупе вокруг). А ты должен сам себя поставить в такую организацию текущего момента, чтобы тебе было интересно, кто бы рядом ни находился — профессионал или любитель, вроде тебя. Это никак не должно сказываться на том, что мы делаем в кадре или на сцене.
— А как ты реагируешь на звездные проявления своих коллег?
— Я просто видел звезд в Голливуде. Они могут взорваться по поводу неприемлемых человеческих проявлений со стороны продюсера, но что касается работы — никто никогда не позволяет себе неуважения к тем, кто рядом. Они, например, прекрасно понимали, что я плохо знал английский язык, и, наверное, могли сказать: “Слушайте, уберите этого русского. Пусть сначала подучит”. Но никто подобного себе не позволял. А когда это происходит с нашим российским людом, мне смешно.
— Это единственная твоя эмоция на этот счет?
— Не знаю. Но актерская братия, она ведь не очень умная. И не должна быть очень умной.
— Но ты к этой братии тоже принадлежишь.
— Естественно, я себя не отделяю. Понимаешь, многие актеры должны найти какой-то внешний раздражитель, чтобы применить к своей работе и самим себе помочь. Поэтому они вокруг себя создают такую атмосферу. Это скучно. А когда эту эмоциональную волну, состояние партнера ловишь как бы из ничего, из воздуха — вот тогда у меня истинный интерес возникает.
Это наше представление, что западные звезды позволяют себе все — выпивать на площадке, курить траву. Никогда в жизни! Они стараются оградить себя от мешающих эмоций. Поэтому всегда со своими гримерами, которые знают их лица. И это не пижонство: от того, как гример нажимает губкой на твое лицо, зависит, как ты сыграешь. Или когда объявляется обеденный перерыв — никто себе не позволяет прийти в вагончик, где раздают обед, и встать первым. Если даже встанет, на него подадут в суд и найдут статью за неуважение к трудовому коллективу. Может быть, это их держит, а не просто они такие хорошие.
Вот когда они выходят за рамки съемочной площадки, то — да, становятся величиной умопомрачительной. Том Круз прилетел за Кидман в Братиславу, где мы с ней снимались в “Миротворцах”. Когда самолет приземлился, тут же появились люди с щитами и выстроили коридор, чтобы Круз прошел в аэропорт. Я думаю, что, если бы эти щиты не выстраивались, он бы и так прошел. И особо его там не порвали бы. Но как только звезды выходят в жизнь, начинает работать механизм звездного свечения.
— Как бы ты себя ощущал в подобной ситуации?
— Чудовищно. Они сами, я думаю, себя чудовищно чувствуют. Я реальный человек, я реально хожу по земле, реально езжу в метро и не надеваю при этом темные очки.
— Неужели спускаешься в метро?
— Да, чтобы в пробках не стоять, ныряю в метро. При этом ничего не делаю со своим лицом. На меня смотрят люди, иногда я вижу некое недоумение в их глазах: я ли это и почему здесь? Но никакого страха я не испытываю.
Вокруг все уплетают обед. Хочется есть. Толян подходит и заговорщически спрашивает Балуева: “Тебе, как всегда, оставить? А с картошечкой или с рисом?”
VIII
— А ты когда-нибудь испытывал сильное желание исповедоваться?
— Нет, никогда. Может быть, поэтому я так люблю свою профессию, которая мне позволяет это делать. Я выговариваю то, что во мне накапливается, то, что я натворил и что со мной натворили.
— Почему ты уехал из Москвы, построил в деревне дом, перевез семью?
— Трудно дышать. В городе вообще все трудно мне стало, некомфортно.
— Где ты любишь учить роль — уходишь в леса? Или ложишься и смотришь в небо?
— В лес я не ухожу. Понимаешь, я вообще не учу роли. Если мне дают сценарий, я его читаю и слушаю себя: есть во мне какой-то отклик? Цепляет ли? В театре — да, технологически учу, тем более что встречаемся каждый день, репетируем, текст заучивается хочешь не хочешь. А вот так, чтобы я сидел и учил, — нет. И в кино не учу. Приезжаю на площадку, смотрю текст и запоминаю то, что мне важно. Очень раздражаюсь, когда режиссер требует буквального повторения текста.
— Мне кажется, ты бы удачно мог работать в японском театре — там минимум слов и движений и максимум выразительной энергии, направляемой телом, мышцами артиста.
— Я бы с удовольствием в итальянском поработал. Внутренне — это мой театр: фейерверк, праздничность. Люблю это.
— Для Арлекино, извини, ты крупноват. И потом, все привыкли к твоей энергетичной статике.
— Ну подождите немножко. На театре скоро что-нибудь такое забубеним.
— Если раньше, как говорил Чехов, в России больше любили артистов, чем купцов, то теперь больше купцов, чем твоего брата артиста.
— Я думаю, что это естественно. Мне это совершенно не обидно. Я тут зашел в магазин “Перекресток” купить какую-то фигню, выбираю, и подходит какая-то женщина, примерно моя ровесница. Она ничего от меня не хотела. “Я вот вас встретила и не могу вам не сказать. Пока в нашей стране есть такие актеры, не все так плохо”. И ушла. Причем она по облику из бизнеса.
Я не задаюсь вопросом: ценнее я Березовского или Абрамовича или не ценнее? Вот я не думаю, что к ним кто-то подойдет и скажет такие слова.
— Положа руку на сердце, ты расстраиваешься, когда тебя обделяют премиями?
— Ну, расстраиваюсь, конечно. Но все эти премии задевают низменные человеческие чувства. Я даже сам себе говорю: “Чего тебе? Тебе плохо без этого? Что-то изменится, если ты не лауреат Государственной премии?” Ничего не изменится. Даже ставка в кино. Таким образом я сам с собой разговариваю и не могу найти ответа.
— В какие моменты тебя злят деньги?
— В момент их отсутствия. Я от денег вообще не завишу... Нет, неправда, завишу только тогда, когда их у меня нет. А вообще не удовлетворяют, не раздражают — никак.
— А может быть, у тебя есть желание купить остров?
— А у меня нет такого желания. Поэтому я счастливый человек. У меня нет желания летать на личном самолете. И его не могло быть.
— А если жена потребует остров в океане?
— Я с ней разведусь. Шучу — как у моей жены может возникнуть это желание? Я скажу тогда: “Остров? Пожалуйста, хоти”. Значит, я живу с человеком, которого я не понимаю. Если есть женщины ненасытные, то и мужчина рядом должен быть соответствующий. У меня жена нормальная. И если она вдруг действительно попросит остров, я скажу: “У меня нет таких возможностей”. И вот тут она пусть принимает решение, выбирает, что нужнее — я или остров?! Вот так мы завернем комбинацию.
— Где-то ты сказал, что тебя вообще не волнуют ум и красота женщины. Я надеюсь, ты оговорился?
— Женщина умная — ух!!! Или женщина красивая — ух!!! У меня нет таких отправных моментов. Мы же влюбляемся не в ум и даже не в красоту. Поворот головы, какой-то локон, и ты все — сходишь с ума. В чем-то другом мы все существуем, и главное что-то другое. Но я сам не знаю, что это, главное. Но только не вот эти банальности — ум, красота.
— Правда ли, что для фильма Хотиненко “Гибель империи” ты брал специальные уроки военной борьбы?
— Мы приехали в Чехию, а там кендо популярно. И есть люди, которые собираются по вечерам, надевают довольно красивые кимоно, берут в руки палки вместо меча и с визгами и криками бросаются друг на друга. Я встал, мне показали позу, и один из них — ну на меня кидаться с палкой, бить по башке. Не со всей силы, но довольно неприятно. Я терпел. Потому что самурай должен терпеть. Это было жутко неудобно, это все не мое, не люблю.
— Единоборства ты не любишь, стрелять терпеть ненавидишь...
— Я вообще пушистый. Я вообще сидел бы или на печке лежал, как Иван-дурак. Или Обломов... Мне бы что-то одно — либо полежать, либо помолчать, либо поесть. А кто сказал, что я не люблю поесть? Толя! Где мой обед?
М.Райкина
"Московский Комсомолец", 15.11.2004




Copyright © , 2005
